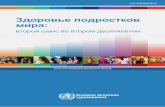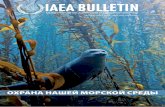G ? F ? P D E H = B Ykprf-sverdlovsk.ru/books/K_Marx_i_F_Engels_Nemetskaya... · 2017. 4. 22. ·...
Transcript of G ? F ? P D E H = B Ykprf-sverdlovsk.ru/books/K_Marx_i_F_Engels_Nemetskaya... · 2017. 4. 22. ·...
-
НЕМЕЦКАЯ ИДЕОЛОГИЯ
Карл Маркс и Фридрих Энгельс
Аннотация
Совместный труд К. Маркса и Ф. Энгельса «Немецкая идеология», оставшийся
незавершенным и не публиковавшийся при жизни основоположников марксизма,
представляет собой важный этап в формировании их взглядов. В нем закладываются
основы материалистического понимания истории, раскрываются важнейшие
предпосылки коммунистического преобразования общества. Он пронизан страстной
полемикой с представителями буржуазных и мелкобуржуазных воззрений, сыгравшей
большую роль в разработке и отстаивании нового, подлинно научного мировоззрения.
Предисловие
Работа К. Маркса и Ф. Энгельса «Немецкая идеология» написана в основном в ноябре
1845 – августе 1846 гг.
В это время Маркс и Энгельс находят теоретическое решение жгучих вопросов,
волновавших передовые умы: в чем состоят основы общественного развития,
существуют ли и в чем состоят закономерности человеческой истории? С выходом
пролетариата на политическую арену эти вопросы приобрели практическую
значимость. Их решение создавало предпосылки для обоснования неизбежности
ликвидации всех форм эксплуатации человека человеком, раскрывало общественную
необходимость осуществления коммунистического идеала. Для научного обоснования
коммунистических идей необходимо было преодолеть идеалистические и
метафизические концепции общественного развития, господствовавшие в домарксовой
философской мысли.
Создание уже в 40-х годах концепции материалистического понимания истории
явилось великим научным достижением, подлинной революцией в учении об обществе,
одним из главных элементов революционного переворота, совершенного Марксом и
Энгельсом в философии. Впервые материализм был распространен на познание
общественных явлений, и тем самым была преодолена непоследовательность всего
предшествовавшего материализма. Впервые было достигнуто целостное научное
понимание всего исторического процесса. Впервые был разработан научный метод
изучения истории. «Философия Маркса, – писал В.И. Ленин, – есть законченный
философский материализм, который дал человечеству великие орудия познания, а
рабочему классу – в особенности» (Ленин В.И. Полн. собр. соч., т. 23, с. 44).
«Немецкая идеология» знаменует важный этап в теоретической деятельности Маркса и
Энгельса, предшествующий публикации таких трудов зрелого марксизма, как «Нищета
философии» К. Маркса (1-я половина 1847) и «Манифест Коммунистической партии»
К. Маркса и Ф. Энгельса (декабрь 1847 – январь 1848).
На этом этапе формирования материалистического мировоззрения Маркс и Энгельс
прежде всего критиковали объективный идеализм Гегеля и субъективный идеализм
младогегельянцев. Выступая в защиту материалистической философии Фейербаха,
Маркс и Энгельс в то же время глубоко раскрывали непоследовательность,
-
ограниченность, метафизический характер фейербаховского материализма. В процессе
творческой переработки идеалистической диалектики Гегеля и предшествующего
философского материализма, в особенности учения Фейербаха, они создавали
диалектический материализм – науку о наиболее общих законах движения и развития
природы, общества и мышления. Особое внимание было уделено применению
материалистического принципа к научному анализу истории развития человеческого
общества.
«Немецкая идеология» представляет собой многоплановое произведение, в котором
богатое теоретическое содержание дополняется боевой и поучительной полемикой с
представителями младогегельянства и «истинного социализма». В ходе этой полемики
Маркс и Энгельс высказывают принципиально важные мысли по вопросам философии,
политэкономии, теории и истории государства и права, языкознания, эстетики и
литературной критики, дают новую материалистическую интерпретацию истории
общественной мысли.
В «Немецкой идеологии» был сделан огромный шаг вперед в развитии философского
фундамента революционно-пролетарского мировоззрения. Здесь материалистическое
понимание истории впервые стало достаточно целостной концепцией движущих сил и
структуры общества, периодизации истории. Она предстает не только как теория
общества, но и как метод познания общественных и исторических явлений. Маркс и
Энгельс дали науке средство выяснения как общего хода общественного развития, так
и существующих буржуазных общественных отношений. Тем самым они открыли
возможность такого осмысления общественных процессов, которое необходимо для
активного революционного действия. Маркс сам видел в этой работе
методологическую предпосылку для создания пролетарской политической экономии. В
письме к немецкому издателю Леске 1 августа 1846 г. он указывал, что публикация
полемического произведения против немецких философов должна подготовить
читателя к восприятию его точки зрения в области экономической науки.
Наиболее содержательная часть «Немецкой идеологии» – первая глава, носящая
название «Фейербах. Противоположность материалистического и идеалистического
воззрений».
Новое мировоззрение Маркса и Энгельса излагается в форме критики всей немецкой
послегегелевской философии. Центральным был вопрос: как изменить существующую
действительность? Младогегельянцы выступали со словесной критикой
существующего, вели ее косвенно, в форме критики религии. Это была борьба не с
самой действительностью, а с тенями действительности. Младогегельянцы фактически
исходили из незыблемости существующих отношений, стремясь дать им лишь новое
истолкование. Маркс и Энгельс поставили своей целью раз и навсегда развенчать эту
оторванную от живой жизни философскую борьбу. Они доказывали, что дело
заключается не в различных попытках объяснения мира, а в изменении
действительности, руководствуясь научным анализом законов общественного развития.
Значительное место Маркс и Энгельс уделили критике воззрений одного из
родоначальников мелкобуржуазного анархизма Макса Штирнера.
Предпосылками, из которых исходили Маркс и Энгельс и которые они впервые
формулируют в «Немецкой идеологии», являются люди, их деятельность и
материальные условия их деятельности. Это одновременно и предпосылки самой
истории и предпосылки материалистического ее понимания. В противоположность
-
младогегельянцам, тем немецким идеалистам, которые вслед за Гегелем претенциозно
объявляли, что их философия обходится якобы без предпосылок, в «Немецкой
идеологии» последовательно материалистически и диалектически решается этот
кардинальный вопрос философии, формулируются отправные положения нового
мировоззрения. Маркс и Энгельс прямо говорят, что они сознательно исходят из
определенных – и притом не умозрительных, а действительных, реальных –
предпосылок, и четко их указывают.
Преодолевая метафизику предшествующего материализма, рассматривавшего природу
как нечто неизменное, Маркс и Энгельс выясняют исторический характер самих
природных условий, в которых живет и действует человек. Они различают те условия,
которые человек застает как нечто данное, и те, которые созданы деятельностью
человека. В существующем обществе, показывают они, сама материальная среда
становится продуктом исторической деятельности людей. Полемизируя с Фейербахом,
который не понимал обратного воздействия людей на природу, Маркс и Энгельс
подчеркивают: «Эта деятельность, этот непрерывный чувственный труд и созидание,
это производство служит настолько глубокой основой всего чувственного мира, как он
теперь существует, что если бы оно прекратилось хотя бы… на один год, то Фейербах
увидел бы огромные изменения не только в мире природы, – очень скоро не стало бы и
всего человеческого мира, его, Фейербаха, собственной способности созерцания и даже
его собственного существования» (с. 24). По мере развития общества природные
условия все больше превращаются в исторические продукты деятельности людей. В
такой постановке вопроса проявляется глубокий историзм материалистической теории
развития общества.
Маркс и Энгельс показывают, что определенная природная среда является
объективным материальным условием существования и развития человеческого
общества. Они отмечают также, что физическая, «телесная организация» людей
обусловливает их определенное отношение к внешней природе. Но главным предметом
исследования в «Немецкой идеологии» являются не эти две предпосылки истории. Все
свое внимание авторы сосредоточивают на рассмотрении деятельности людей, как
решающего фактора исторического процесса.
Деятельность людей имеет две стороны: производство (отношение людей к природе, их
воздействие на нее) и общение (отношение людей друг к другу, и прежде всего в
процессе производства). Производство и общение взаимно обусловливают друг друга,
но определяющей стороной в этом взаимодействии является производство.
С производства начинается вся история человеческого общества. Именно материальное
производство отличает человека от животного. «Людей можно отличать от животных
по сознанию, по религии – вообще по чему угодно. Сами они начинают отличать себя
от животных, как только начинают производить необходимые им жизненные средства»
(с. 15).
Первая предпосылка человеческой истории состоит в том, что люди должны жить,
следовательно, должны иметь пищу, питье, жилище, одежду. Поэтому первый
исторический акт – это производство средств, необходимых для удовлетворения
указанных потребностей.
В «Немецкой идеологии» Маркс и Энгельс не только развили положение о решающей
роли материального производства в жизни общества, но и впервые выяснили
диалектику развития производительных сил и производственных отношений. Это
-
важнейшее открытие было сформулировано здесь как диалектика производительных
сил и формы общения. Оно как бы предопределило всю складывающуюся систему
категорий исторического материализма, дало возможность изложения
материалистического понимания истории.
Производительные силы определяют форму общения (общественные отношения). На
определенной ступени своего развития производительные силы приходят в
противоречие с существующей формой общения. Противоречие это разрешается путем
социальной революции. На место прежней, ставшей оковами для производительных
сил формы общения, приходит новая, соответствующая их более развитому уровню.
Впоследствии эта новая форма общения, в свою очередь, сама устаревает и сменяется
исторически более прогрессивной формой. Так на протяжении всего исторического
процесса создается преемственная связь между его последовательными ступенями.
Раскрывая законы развития общества, Маркс и Энгельс пришли к основополагающему
выводу: «…Все исторические коллизии, согласно нашему пониманию, коренятся в
противоречии между производительными силами и формой общения» (с. 58).
Если раньше, критикуя гегелевскую философию права, Маркс выяснил, что
экономические отношения определяют отношения политические, правовые и т.д., то
теперь было установлено, чем же определяются сами экономические отношения, была
вскрыта более глубокая основа исторического процесса: производительные силы
определяют в конечном счете все отношения между людьми, их развитие
обусловливает переход от одной формы общества к другой. Теперь был раскрыт
внутренний механизм этого развития. Тем самым была выяснена зависимость между
главными сторонами общественной жизни: производительными силами и
производственными отношениями, совокупностью производственных отношений и
политической надстройкой, а также формами общественного сознания.
Открытие этих законов общественного развития послужило отправным пунктом для
создания в дальнейшем научной периодизации истории. Яркую характеристику этому
научному достижению дал В.И. Ленин: «Величайшим завоеванием научной мысли
явился исторический материализм Маркса. Хаос и произвол, царившие до сих пор во
взглядах на историю и на политику, сменились поразительно цельной и стройной
научной теорией, показывающей, как из одного уклада общественной жизни
развивается, вследствие роста производительных сил, другой, более высокий, – из
крепостничества, например, вырастает капитализм» (Ленин В.И. Полн. собр. соч., т. 23,
с. 44).
Маркс и Энгельс исследовали в «Немецкой идеологии» основные фазы исторического
развития общественного производства. Они показали, что уровень развития
производительных сил находит свое выражение в степени разделения труда. Каждая
ступень разделения труда определяет соответствующую форму собственности, а
отношения собственности, как впоследствии указывал Маркс, являются лишь
«юридическим выражением» производственных отношений. Результатом развития
производительных сил был переход от первоначального, естественного разделения
труда к общественному в такой его форме, которая выражается в разделении общества
на классы. Это был переход от доклассового общества к классовому.
Опираясь на эти новые идеи, Маркс и Энгельс набрасывают в общих чертах картину
развития человеческого общества от его возникновения до перехода к подлинно
человеческому, коммунистическому строю.
-
Вместе с общественным разделением труда развиваются и такие производные
исторические явления, как частная собственность, государство, «отчуждение»
социальной деятельности. Если естественному разделению труда в первобытном
обществе соответствовала первая, племенная (родовая) форма собственности, то
общественное разделение труда определяет дальнейшее развитие и смену форм
собственности. «Вторая форма собственности, это – античная общинная и
государственная собственность… третья форма, это – феодальная или сословная
собственность», четвертая форма – буржуазная собственность. В выделении и анализе
последовательно сменяющих друг друга форм собственности, характерных для
различных ступеней исторического развития, была заложена основа научной
марксистской теории об общественных формациях, их последовательной и
закономерной смене.
Подробнее других исторических форм собственности Маркс и Энгельс рассматривают
буржуазную форму частной собственности, прослеживают переход от цехового строя к
мануфактуре и крупной промышленности. В развитии буржуазного общества здесь
впервые выделяются и анализируются две главные фазы: период мануфактуры и
период крупной промышленности. В «Немецкой идеологии» было доказано, что только
с развитием крупной промышленности выявляется необходимость и создаются
материальные условия для уничтожения частной собственности на средства
производства.
Переходя от рассмотрения производства к сфере общения, т.е. общественных
отношений, общественного строя, Маркс и Энгельс дали материалистическое
толкование классовой структуры общества, показали роль классов и классовой борьбы
в общественной жизни. В «Немецкой идеологии» марксистская теория классов и
классовой борьбы уже приобрела вполне зрелые черты – те самые черты, которые
отличали эту теорию от понимания классов и классовой борьбы буржуазными
историками. Было показано, что раскол общества на антагонистические классы и
существование этих классов связаны с определенными ступенями развития
производства, что развитие классовой борьбы неизбежно должно привести к
совершаемой пролетариатом коммунистической революции. Конечным результатом
этой революции будет ликвидация классового разделения общества.
Большое внимание в «Немецкой идеологии» уделено политической надстройке, и
особенно отношению государства и права к собственности. Здесь впервые была
раскрыта сущность государства вообще и буржуазного государства в особенности.
«…Государство, – писали Маркс и Энгельс, – есть та форма, в которой индивиды,
принадлежащие к господствующему классу, осуществляют свои общие интересы и в
которой все гражданское общество данной эпохи находит свое концентрированное
выражение…» (с. 74). Выясняя классовую природу и главные функции государства на
капиталистической стадии развития, авторы «Немецкой идеологии» указывали, что
буржуазное государство «есть не что иное, как форма организации, которую неизбежно
должны принять буржуа, чтобы – как вовне, так и внутри страны – взаимно
гарантировать свою собственность и свои интересы» (с. 73).
В «Немецкой идеологии» показано, что возникновение государства есть результат
разделения общества на классы, это та политическая форма, в которой
господствующий класс осуществляет свои общие интересы. Государство буржуазного
общества представляет собой форму организации, с помощью которой буржуазия как
внутри своей страны, так и вне ее «гарантирует свою собственность».
-
Изложение материалистической концепции общества и его истории Маркс и Энгельс
завершают рассмотрением форм общественного сознания. Они выясняют, в частности,
отношение господствующего сознания к господствующему классу и тем самым
вскрывают классовую природу идеологической надстройки. В «Немецкой идеологии»
впервые всесторонне применен классовый подход к идеологическим течениям,
последовательно проведен принцип партийности в философии.
В «Немецкой идеологии» сформулировано материалистическое решение основного
вопроса философии об отношении сознания к бытию. Это выражается здесь в
следующих положениях: «Сознание никогда не может быть чем-либо иным, как
осознанным бытием, а бытие людей есть реальный процесс их жизни… Не сознание
определяет жизнь, а жизнь определяет сознание» (с. 20). В отличие от других
материалистов, предшественников Маркса и Энгельса в области философии, в
«Немецкой идеологии» дается принципиально новое понимание самого бытия людей.
Это – не просто внешняя природа, как, например, у Фейербаха, а прежде всего
общественное бытие – реальный процесс жизни людей, в котором решающую роль
играет их материальная практическая деятельность. Маркс и Энгельс при этом
доказывают недостаточность выяснения земного, материального происхождения тех
или иных продуктов сознания, чем ограничивался Фейербах. Необходимо,
подчеркивали они, нечто большее – проследить, как из материальной, земной основы и
ее противоречий вырастают, развиваются все формы общественного сознания. Таким
образом, Маркс и Энгельс последовательно применяют материализм, исследуя все
стороны и явления жизни общества: производство и общественные отношения,
государство, право, мораль, религию и философию, общий ход, конкретные периоды и
события истории.
Резюмируя сущность материалистического понимания истории, Маркс и Энгельс
писали: «Итак, это понимание истории заключается в том, чтобы, исходя именно из
материального производства непосредственной жизни, рассмотреть действительный
процесс производства и понять связанную с данным способом производства и
порожденную им форму общения – т.е. гражданское общество на его различных
ступенях – как основу всей истории; затем необходимо изобразить деятельность
гражданского общества в сфере государственной жизни, а также объяснить из него все
различные теоретические порождения и формы сознания, религию, философию, мораль
и т.д. и т.д., и проследить процесс их возникновения на этой основе, благодаря чему,
конечно, можно будет изобразить весь процесс в целом (а потому также и
взаимодействие между его различными сторонами). Это понимание истории, в отличие
от идеалистического… объясняет не практику из идей, а идейные образования из
материальной практики и в силу этого приходит также к тому выводу… что не критика,
а революция является движущей силой истории, а также религии, философии и прочей
теории» (с. 37).
В своей последующей научной деятельности Маркс и Энгельс постоянно развивали и
углубляли материалистическую концепцию истории, совершенствовали метод
исторического материализма, применяя его к различным областям обществознания.
Ими была более фундаментально разработана и уточнена вся система понятий, которая
в «Немецкой идеологии» носит пока еще печать процесса формирования самой
указанной концепции.
Для формирования нового революционного мировоззрения большое значение имела не
только позитивная сторона «Немецкой идеологии», изложение взглядов ее авторов, но
и критическое содержание этого труда.
-
Подвергнув анализу воззрения немецких философов, Маркс и Энгельс по существу
дали радикальную и научно обоснованную критику всей предшествовавшей
философской мысли. Они показали несостоятельность идеалистического понимания
истории, идеалистической социологии и историографии. Буржуазные представители
этих наук никогда не могли разобраться в подлинной сути общественных процессов,
были неспособны постигнуть их действительный характер, в лучшем случае могли
уловить и более или менее правильно описать лишь отдельные стороны исторического
развития, не уяснив их определяющей основы и связи. Идеалистическое понимание
истории, подчеркивали авторы «Немецкой идеологии», ведет только к поверхностному
и иллюзорному восприятию исторического процесса и истолковывает его иллюзорным
образом. Равным образом основанные на подобном истолковании социалистические
теории не могут выйти за пределы фантастических представлений и утопий.
В «Немецкой идеологии» завершается начатая ранее, в частности в «Святом
семействе», критика субъективно-идеалистических взглядов Бруно Бауэра с его
мистификациями, противопоставлением выдающихся личностей, якобы единственных
творцов истории, «пассивным и инертным» народным массам.
Бóльшую часть «Немецкой идеологии» занимает критическое рассмотрение
философских и социологических взглядов Макса Штирнера, развернутых в его книге
«Единственный и его собственность». Штирнер был типичным выразителем
индивидуализма и одним из первых идеологов анархизма. Его философия и социология
отражали мелкобуржуазный протест против буржуазного строя и пользовались
успехом среди мелкобуржуазной интеллигенции, частично повлияли и на незрелые
взгляды пролетаризирующихся ремесленников. Непонимание Штирнером роли
пролетариата, который он отождествлял с пауперами, а также прямые высказывания
против коммунизма делали необходимым решительное разоблачение его воззрений.
Маркс и Энгельс показали искусственность и надуманность построений Штирнера,
иллюзорность его поисков эмансипации личности посредством разрушения
государства и осуществления «права» на эгоистическое самоутверждение каждого
индивида. Волюнтаристические апелляции Штирнера, подчеркивали Маркс и Энгельс,
никоим образом не затрагивали существующих общественных отношений, их
экономической основы и, таким образом, в действительности продолжали
санкционировать сохранение тех буржуазных общественных условий, которые
являются основным источником реального неравноправия и угнетения личности.
Разоблачение анархистских идей Штирнера в «Немецкой идеологии» носило по
существу характер критики всех подобных индивидуалистических теорий,
подменявших участие в действительном революционном движении бесплодным
бунтом отдельной личности и проповедовавших вместо положительных
коммунистических целей борьбы сплошное отрицание и разрушение. Путь Штирнера и
ему подобных, подчеркивали Маркс и Энгельс, отнюдь не ведет к освобождению
личности. Только коммунистическая революция рабочего класса, революция в
интересах всех трудящихся, может привести к уничтожению оков, накладываемых на
личность капиталистическим строем, и обеспечить подлинную свободу и расцвет
человеческих индивидов, гармоничное единство общественных и личных интересов.
В «Немецкой идеологии» показывается, что в сущности немецкий, так называемый
«истинный социализм» был лишь мещанской разновидностью более раннего
мелкобуржуазного социального утопизма. Маркс и Энгельс показывают, что
«истинные социалисты» под видом «всеобщей любви к людям» распространяют идеи
-
классового мира, идеи отказа от борьбы за демократические свободы и революционные
преобразования. Это было особенно опасно в то время в Германии, где обострялась
борьба всех демократических сил против абсолютизма и феодальных отношений, и,
наряду с этим, все сильнее выступали противоречия между пролетариатом и
буржуазией. Маркс и Энгельс также подвергают уничтожающей критике немецкий
национализм «истинных социалистов», их высокомерное отношение к другим народам.
В противоположность псевдосоциализму «истинных социалистов», анархо-
индивидуализму Штирнера и взглядам социалистов-утопистов Маркс и Энгельс
формулируют в «Немецкой идеологии» ряд важнейших исходных идей научного
коммунизма.
Они подчеркивали, что коммунизм является не умозрительным планом будущего
идеального общества, а закономерным результатом объективного исторического
процесса. «Мы называем коммунизмом, – писали авторы „Немецкой идеологии―, –
действительное движение, которое уничтожает теперешнее состояние» (с. 33). Ими
доказывалось, что путь к установлению коммунистического общества лежит через
пролетарскую революцию. В «Немецкой идеологии» формулируется важное
положение о том, что эта революция «необходима не только потому, что никаким иным
способом невозможно свергнуть господствующий класс, но и потому, что свергающий
класс только в революции может сбросить с себя всю старую мерзость и стать
способным создать новую основу общества» (с. 36).
В «Немецкой идеологии» формулируется мысль о том, что непосредственной целью
такой революции является завоевание пролетариатом политической власти (см. с. 30).
Таким образом, в самой общей форме здесь впервые высказана идея диктатуры
пролетариата.
В «Немецкой идеологии» зафиксирован также ряд положений, характеризующих
коренные особенности будущего коммунистического общества и вытекающих из
реальных процессов общественного развития. Среди характерных черт коммунизма
Маркс и Энгельс отмечают: ликвидацию частной собственности на средства
производства, разделение общества на классы и политическое господство одного
класса над другим. В самых общих чертах говорится также о преодолении
противоположности между городом и деревней, между умственным и физическим
трудом. Маркс и Энгельс указывали, что сам труд превратится в подлинную
самодеятельность свободных людей, организуемый по общему плану. Вместе с
преобразованием материальных условий деятельности людей изменятся и сами люди,
их сознание.
Как своими позитивными идеями, так и критикой враждебных пролетарскому
мировоззрению идейных течений, в том числе и тех, которые облекались в
псевдореволюционную и социалистическую фразеологию, «Немецкая идеология»
отразила важную ступень в развитии марксизма. Эта работа знаменует важный этап в
философском, социологическом обосновании научного коммунизма.
При жизни К. Маркса и Ф. Энгельса «Немецкая идеология» не была, за исключением
одной главы, опубликована. Однако, по свидетельству Маркса, затраченный труд не
пропал даром: «Мы тем охотнее предоставили рукопись грызущей критике мышей, –
писал Маркс об этом в 1859 г. в предисловии к книге „К критике политической
экономии―, – что наша главная цель – уяснение дела самим себе – была достигнута»
(Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 13, с. 8). Действительно, достигнутые
-
теоретические результаты явились основой их дальнейшей научной и практической
деятельности. Марксу и Энгельсу вскоре представилась возможность обнародовать
основные выводы «Немецкой идеологии», причем в более совершенном виде. Это было
сделано в «Нищете философии» и «Манифесте Коммунистической партии».
Впервые «Немецкая идеология» была опубликована в Советском Союзе Институтом
Маркса – Энгельса – Ленина: в 1932 году на немецком языке, а в 1933 году – на
русском.
Настоящее издание печатается по тексту Избранных сочинений К. Маркса и Ф.
Энгельса в 9 томах, т. 2.
Институт марксизма-ленинизма при ЦК КПСС
К. Маркс и Ф. Энгельс НЕМЕЦКАЯ ИДЕОЛОГИЯ Критика новейшей
немецкой философии в лице ее представителей Фейербаха, Б. Бауэра и
Штирнера и немецкого социализма в лице его различных пророков
{1}
Написано К. Марксом и Ф. Энгельсом в 1845 – 1846 гг.
Печатается по: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 3, сверенному с Marx K.; Engels
F. Collected Works V. 5, Progress Publishers, Moscow, 1976.
Том I. Критика новейшей немецкой философии в лице ее представителей
Фейербаха, Б. Бауэра и Штирнера
Предисловие
Люди до сих пор всегда создавали себе ложные представления о себе самих, о том, что
они есть или чем они должны быть. Согласно своим представлениям о боге, о том, что
является образцом человека, и т.д. они строили свои отношения. Порождения их
головы стати господствовать над ними. Они, творцы, склонились перед своими
творениями. Освободим же их от иллюзий, идей, догматов, от воображаемых существ,
под игом которых они изнывают. Поднимем восстание против этого господства
мыслей. Научим их, как заменить эти иллюзии мыслями, отвечающими сущности
человека, говорит один[1]
, как отнестись к ним критически, говорит другой[2]
, как
выкинуть их из своей головы, говорит третий[3]
, – и… существующая действительность
рухнет.
Эти невинные и детские фантазии образуют ядро новейшей младогегельянской
философии, которую в Германии не только публика принимает с чувством ужаса и
благоговения, но и сами философские герои также преподносят с торжественным
сознанием ее миропотрясающей опасности и преступной беспощадности. Первый том
предлагаемой работы ставит себе целью разоблачить этих овец, считающих себя
волками и принимаемых за таковых, – показать, что их блеяние лишь повторяет, в
философской форме, представления немецких бюргеров, что хвастливые речи этих
философских комментаторов только отражают убожество немецкой действительности.
Эта книга ставит себе целью развенчать и лишить всякого доверия философскую
-
борьбу с тенями действительности, борьбу, которая так по душе мечтательному и
сонливому немецкому народу.
Одному бравому человеку пришло однажды в голову, что люди тонут в воде только
потому, что они одержимы мыслью о тяжести. Если бы они выкинули это
представление из головы, объявив, например, его суеверным, религиозным, то они
избавились бы от всякого риска утонуть. Всю свою жизнь боролся он против иллюзии
тяжести, относительно вредных последствий которой статистика доставляла ему все
новые и новые доказательства. Сей бравый муж явился прообразом современных
немецких революционных философов[4]
.
Фейербах. Противоположность материалистического и идеалистического
воззрений
{2}
[I]
Как возвещают немецкие идеологи, Германия проделала за последние годы переворот,
который не имеет себе равного. Начавшийся со Штрауса процесс разложения
гегелевской системы{3}
превратился во всемирное брожение, охватившее все «силы
прошлого». Во всеобщем хаосе возникали мощные державы, чтобы тотчас же снова
исчезнуть, появлялись на миг герои, которых более смелые и более сильные соперники
вновь низвергали во мрак. Это была революция, по сравнению с которой французская
революция – лишь детская игра, это была мировая борьба, перед которой борьба
диадохов{4}
кажется ничтожной. С неслыханной стремительностью одни принципы
вытеснялись другими, одни герои мысли сокрушали других, и за три года – с 1842 по
1845 – в Германии была произведена чистка более основательная, чем прежде за три
столетия.
Все это произошло-де в области чистой мысли.
Как бы то ни было, мы имеем дело с интересным событием: с процессом разложения
абсолютного духа. Когда в нем угасла последняя искра жизни, различные составные
части этого caput mortuum[5]
распались, вступили в новые соединения и образовали
новые вещества. Люди, промышляющие философией, существовавшие до той поры
эксплуатацией абсолютного духа, набросились теперь на эти новые соединения.
Каждый с величайшей старательностью стал заниматься сбытом доставшейся ему доли.
Дело не могло обойтись без конкуренции. Вначале она носила довольно солидный,
бюргерски-добропорядочный характер. Но затем, когда немецкий рынок оказался
переполненным, а на мировом рынке, несмотря на все усилия, товар не находил спроса,
все дело, на обычный немецкий манер, было испорчено фабричным и дутым
производством, ухудшением качества, фальсификацией сырья, подделкой этикеток,
фиктивными закупками, вексельными плутнями и лишенной всякой реальной почвы
кредитной системой. Конкуренция превратилась в ожесточенную борьбу, которую нам
теперь расхваливают и изображают как переворот всемирно-исторического значения,
как фактор, породивший величайшие результаты и достижения.
Для того, чтобы оценить по достоинству все это философское шарлатанство, которое
даже вызывает в груди почтенного немецкого бюргера столь приятные для него
национальные чувства, чтобы наглядно показать мелочность, провинциальную
ограниченность всего этого младогегельянского движения, а в особенности для того,
-
чтобы обнаружить трагикомический контраст между действительными деяниями этих
героев и иллюзиями по поводу этих деяний, – необходимо взглянуть на всю эту
шумиху с позиции, находящейся вне Германии[6]
.
[1.] Идеология вообще, немецкая в особенности
Немецкая критика вплоть до своих последних потуг не покидала почвы философии.
Все проблемы этой критики, – весьма далекой от того, чтобы исследовать свои
общефилософские предпосылки, – выросли на почве определенной философской
системы, а именно – системы Гегеля. Не только в ее ответах, но уже и в самих ее
вопросах заключалась мистификация. Эта зависимость от Гегеля – причина того,
почему ни один из этих новоявленных критиков даже не попытался приняться за
всестороннюю критику гегелевской системы, хотя каждый из них утверждает, что
вышел за пределы философии Гегеля. Их полемика против Гегеля и друг против друга
ограничивается тем, что каждый из них выхватывает какую-нибудь одну сторону
гегелевской системы и направляет ее как против системы в целом, так и против тех
сторон, которые выхвачены другими. Вначале выхватывали гегелевские категории в их
чистом, неподдельном виде, как, например, «субстанция» и «самосознание»[7]
; затем
профанировали эти категории, назвав их более мирскими именами, как, например,
«род», «единственный», «человек»[8]
и т.д.
Вся немецкая философская критика от Штрауса до Штирнера ограничивается критикой
религиозных представлений[9]
. Отправной точкой служили действительная религия и
теология в собственном смысле слова. Чтó такое религиозное сознание, религиозное
представление – это в дальнейшем определялось по-разному. Весь прогресс заключался
в том, что мнимо господствующие метафизические, политические, правовые,
моральные и иные представления также сводились к области религиозных, или
теологических, представлений, да еще в том, что политическое, правовое, моральное
сознание объявлялось религиозным, или теологическим, сознанием, а политический,
правовой, моральный человек – в последнем счете «человек вообще» – провозглашался
религиозным человеком. Господство религии предполагалось заранее. Мало-помалу
всякое господствующее отношение стало объявляться религиозным отношением и
превращалось в культ – культ права, культ государства и т.п. Повсюду фигурировали
только догматы и вера в догматы. Мир канонизировался во все большем объеме, пока,
наконец, достопочтенный святой Макс[10]
не смог объявить его святым en bloc[11]
и
таким образом покончить с ним раз навсегда.
Старогегельянцы считали, что ими все понято, коль скоро подведено под ту или иную
гегелевскую логическую категорию. Младогегельянцы все критиковали, подставляя
повсюду религиозные представления или объявляя все теологическим.
Младогегельянцы разделяют со старогегельянцами их веру в то, что в существующем
мире господствует религия, понятия, всеобщее. Но одни восстают против этого
господства как против узурпации, а другие прославляют его как нечто законное.
Так как у этих младогегельянцев представления, мысли, понятия, вообще продукты
сознания, превращенного ими в нечто самостоятельное, считаются настоящими
оковами людей – совершенно так же, как у старогегельянцев они объявляются
истинными скрепами человеческого общества, – то становится понятным, что
младогегельянцам только против этих иллюзий сознания и надлежит вести борьбу. Так
как, согласно их фантазии, отношения людей, все их действия и все их поведение, их
оковы и границы являются продуктами их сознания, то младогегельянцы вполне
последовательно предъявляют людям моральное требование заменить их теперешнее
-
сознание человеческим, критическим или эгоистическим сознанием[12]
и таким путем
устранить стесняющие их границы. Это требование изменить сознание сводится к
требованию иначе истолковать существующее, чтó значит признать его, дав ему иное
истолкование. Младогегельянские идеологи, вопреки их якобы «миропотрясающим»
фразам{5}
, – величайшие консерваторы. Самые молодые из них нашли точное
выражение для своей деятельности, заявив, что они борются только против «фраз».
Они забывают только, что сами не противопоставляют этим фразам ничего, кроме
фраз, и что они отнюдь не борются против действительного, существующего мира,
если борются только против фраз этого мира. Единственный результат, которого могла
добиться эта философская критика, заключается в нескольких, да и то односторонних,
историко-религиозных разъяснениях относительно христианства; все же прочие их
утверждения, это – только дальнейшие приукрашивания их претензии на то, что они
этими незначительными разъяснениями совершили якобы всемирно-исторические
открытия.
Ни одному из этих философов и в голову не приходило задать себе вопрос о связи
немецкой философии с немецкой действительностью, о связи их критики с их
собственной материальной средой.
[2. Предпосылки материалистического понимания истории]
Предпосылки, с которых мы начинаем, – не произвольны, они – не догмы; это –
действительные предпосылки, от которых можно отвлечься только в воображении. Это
– действительные индивиды, их деятельность и материальные условия их жизни, как
те, которые они находят уже готовыми, так и те, которые созданы их собственной
деятельностью. Таким образом, предпосылки эти можно [с. 4] установить чисто
эмпирическим путем.
Первая предпосылка всякой человеческой истории – это, конечно, существование
живых человеческих индивидов[13]
. Поэтому первый конкретный факт, который
подлежит констатированию, – телесная организация этих индивидов и обусловленное
ею отношение их к остальной природе. Мы здесь не можем, разумеется, углубляться ни
в изучение физических свойств самих людей, ни в изучение природных условий –
геологических, оро-гидрографических, климатических и иных отношений, которые они
застают[14]
. Всякая историография должна исходить из этих природных основ и тех их
видоизменений, которым они благодаря деятельности людей подвергаются в ходе
истории.
Людей можно отличать от животных по сознанию, по религии – вообще по чему
угодно. Сами они начинают отличать себя от животных, как только начинают
производить необходимые им жизненные средства – шаг, который обусловлен их
телесной организацией. Производя необходимые им жизненные средства, люди
косвенным образом производят и саму свою материальную жизнь.
Способ, каким люди производят необходимые им жизненные средства, зависит прежде
всего от свойств самих жизненных средств, находимых ими в готовом виде и
подлежащих воспроизведению.
Этот способ производства надо рассматривать не только с той стороны, что он является
воспроизводством физического существования индивидов. В еще большей степени это
– определенный способ деятельности данных индивидов, определенный вид их
жизнедеятельности, их определенный образ жизни. Какова жизнедеятельность
-
индивидов, таковы и они сами. То, что они собой представляют, совпадает,
следовательно, с их производством – совпадает как с тем, чтó они производят, так и с
тем, как они производят. Чтó представляют собой индивиды – это зависит,
следовательно, от материальных условий их производства.
Это производство начинается впервые с ростом населения. Само оно опять-таки
предполагает общение [Verkehr] индивидов между собой{6}
. Форма этого общения, в
свою очередь, обусловливается производством.
[3. Производство и общение. Разделение труда и формы собственности:
племенная, античная, феодальная]
Взаимоотношения между различными нациями зависят от того, насколько каждая из
них развила свои производительные силы, разделение труда и внутреннее общение. Это
положение общепризнано. Но не только отношение одной нации к другим, но и вся
внутренняя структура самой нации зависит от ступени развития ее производства и ее
внутреннего и внешнего общения. Уровень развития производительных сил нации
обнаруживается всего нагляднее в том, в какой степени развито у нее разделение труда.
Всякая новая производительная сила, – поскольку это не просто количественное
расширение известных уже до того производительных сил (например, возделывание
новых земель), – влечет за собой дальнейшее развитие разделения труда.
Разделение труда в пределах той или иной нации приводит прежде всего к отделению
промышленного и торгового труда от труда земледельческого и, тем самым, к
отделению города от деревни и к противоположности их интересов. Дальнейшее
развитие разделения труда приводит к обособлению торгового труда от
промышленного. Одновременно, благодаря разделению труда внутри этих различных
отраслей, развиваются, в свою очередь, различные подразделения индивидов,
сотрудничающих в той или иной отрасли труда. Положение этих различных
подразделений по отношению друг к другу обусловливается способом применения
земледельческого, промышленного и торгового труда (патриархализм, рабство,
сословия, классы). При более развитом общении те же отношения обнаруживаются и во
взаимоотношениях между различными нациями.
Различные ступени в развитии разделения труда являются вместе с тем и различными
формами собственности, т.е. каждая ступень разделения труда определяет также и
отношения индивидов друг к другу соответственно их отношению к материалу,
орудиям и продуктам труда.
Первая форма собственности, это – племенная собственность{7}
. Она соответствует
неразвитой стадии производства, когда люди живут охотой и рыболовством,
скотоводством или, самое большее, земледелием. В последнем случае она предполагает
огромную массу еще неосвоенных земель. На этой стадии разделение труда развито
еще очень слабо и ограничивается дальнейшим расширением существующего в семье
естественно возникшего разделения труда. Общественная структура ограничивается
поэтому лишь расширением семьи: патриархальные главы племени, подчиненные им
члены племени, наконец, рабы. Рабство, в скрытом виде существующее в семье,
развивается лишь постепенно, вместе с ростом населения и потребностей и с
расширением внешнего общения – как в виде войны, так и в виде меновой торговли.
Вторая форма собственности, это – античная общинная и государственная
собственность, которая возникает главным образом благодаря объединению – путем
-
договора или завоевания – нескольких племен в один город и при которой сохраняется
рабство. Наряду с общинной собственностью развивается уже и движимая, а
впоследствии и недвижимая, частная собственность, но как отклоняющаяся от нормы и
подчиненная общинной собственности форма. Граждане государства лишь сообща
владеют своими работающими рабами и уже в силу этого связаны формой общинной
собственности. Это – совместная частная собственность активных граждан государства,
вынужденных перед лицом рабов сохранять эту естественно возникшую форму
ассоциации. Поэтому вся основывающаяся на этом фундаменте структура общества, а
вместе с ней и народовластие, приходит в упадок в той же мере, в какой развивается
частная собственность, в особенности недвижимая. Разделение труда имеет уже более
развитой характер. Мы встречаем уже противоположность между городом и деревней,
впоследствии – противоположность между государствами, из которых одни
представляют городские, а другие – сельские интересы; внутри же городов имеет место
противоположность между промышленностью и морской торговлей. Классовые
отношения между гражданами и рабами уже достигли своего полного развития.
С развитием частной собственности здесь впервые появляются те отношения, которые
мы вновь встретим – только в более крупном масштабе – при рассмотрении
современной частной собственности. С одной стороны, – концентрация частной
собственности, начавшаяся в Риме очень рано (доказательство – аграрный закон
Лициния) и развивавшаяся очень быстро со времени гражданских войн и в особенности
при императорах{8}
, с другой стороны, в связи с этим – превращение плебейских
мелких крестьян в пролетариат, который, однако, вследствие своего промежуточного
положения между имущими гражданами и рабами, не получил самостоятельного
развития.
Третья форма, это – феодальная или сословная собственность. Если для античности
исходным пунктом служил город и его небольшая округа, то для средневековья
исходным пунктом служила деревня. Эта перемена исходного пункта была обусловлена
редкостью и рассеянностью по обширной площади первоначального населения,
которое приток завоевателей не увеличивал сколько-нибудь значительно. Поэтому, в
противоположность Греции и Риму, феодальное развитие начинается на гораздо более
обширной территории, подготовленной римскими завоеваниями и связанным с ними
вначале распространением земледелия. Последние века приходящей в упадок Римской
империи и само завоевание ее варварами разрушили массу производительных сил;
земледелие пришло в упадок, промышленность, из-за отсутствия сбыта, захирела,
торговля замерла или была насильственно прервана, сельское и городское население
уменьшилось. Все эти условия, с которыми столкнулись завоеватели, и обусловленный
ими способ осуществления завоевания развили, под влиянием военного строя
германцев, феодальную собственность. Подобно племенной и общинной
собственности, она покоится опять-таки на известном сообществе [Gemeinwesen],
которому, однако, противостоят, в качестве непосредственно производящего класса, не
рабы, как в античном мире, а мелкие крепостные крестьяне. Вместе с полным
развитием феодализма появляется и антагонизм по отношению к городам.
Иерархическая структура землевладения и связанная с ней система вооруженных
дружин давали дворянству власть над крепостными. Эта феодальная структура, как и
античная общинная собственность, была ассоциацией, направленной против
порабощенного производящего класса; различны были лишь форма ассоциации и
отношение к непосредственным производителям, ибо налицо были различные условия
производства.
-
Этой феодальной структуре землевладения соответствовала в городах корпоративная
собственность, феодальная организация ремесла. Собственность заключалась [л. 4]
здесь главным образом в труде каждого отдельного индивида. Необходимость
объединения против объединенного разбойничьего дворянства, потребность в общих
рыночных помещениях в период, когда промышленник был одновременно и купцом,
рост конкуренции со стороны беглых крепостных, которые стекались в расцветавшие
тогда города, феодальная структура всей страны – все это породило цехи; благодаря
тому, что отдельные лица среди ремесленников, число которых оставалось неизменным
при растущем населении, постепенно накопляли, путем сбережений, неболь